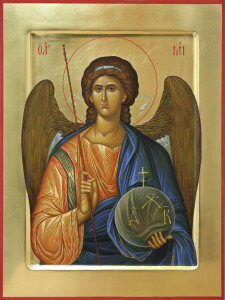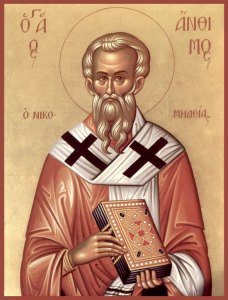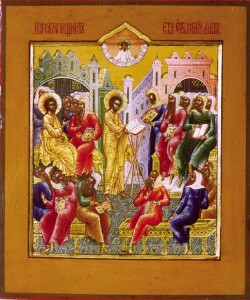Основатель Киево-Печерской Лавры святой Антоний родился в начале XI века в городе Любече (вблизи Чернигова) и в Крещении был назван Антипой. С юных лет он почувствовал влечение к высшей духовной жизни и по внушению свыше решился идти на Афон. В одной из Афонских обителей он принял постриг и начал уединенную жизнь в пещере близ этого монастыря, которую до сих пор показывают.
Когда он приобрел в своих подвигах духовную опытность, игумен дал ему послушание, чтобы он шел на Русь и насадил иночество в этой новопросвещенной христианской стране. Антоний повиновался. Когда преподобный Антоний пришел в Киев, здесь было уже несколько монастырей, основанных по желанию князей греками. Но святой Антоний не избрал ни одного из них, поселился в двухсаженной пещере, выкопанной пресвитером Иларионом. Это было в 1051 г.
Здесь святой Антоний продолжал подвиги строгой иноческой жизни, которыми славился на Афоне: пищей его были черный хлеб через день и вода в крайне умеренном количестве. Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам. Многие приходили к нему за духовным советом и благословением. Некоторые стали проситься к нему на жительство. Первым был принят некто Никон, саном иерей, вторым преподобный Феодосий.
Преподобный Феодосий провел свою молодость в Курске, где жили его родители. С ранних лет он обнаружил благочестивое настроение духа: каждый день он бывал в храме, прилежно читал слово Божие, отличался скромностью, смирением и другими добрыми качествами. Узнав, что в храме иногда не служат литургию из-за недостатка просфор, он решил сам заняться этим делом: покупал пшеницу, своими руками молол и испеченные просфоры приносил в церковь.
За эти подвиги он терпел много неприятностей от матери, которая горячо его любила, но не сочувствовала его стремлениям. Услышав однажды в церкви слова Господни: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня» (Мф.10,37), он решился оставить и мать (отец уже умер), и родной город и явился в Киев к преподобному Антонию.
«Видишь ли, чадо, – спросил его Антоний, – что пещера моя скромна и тесна?» – «Сам Бог привел меня к тебе, – ответил Феодосий, – буду исполнять то, что ты мне повелишь».
Когда число сподвижников преп. Антония возросло до 12, он удалился на соседнюю гору, вырыл себе здесь пещеру и стал подвизаться в затворе. Феодосий остался на прежнем месте; скоро он был избран братией во игумена и начал стараться об учреждении правильного общежития по уставу цареградского Студийского монастыря.
Главные черты учрежденного им общежития были следующие: все имущество у братии должно быть общее, время проводилось в непрестанных трудах; труды разделялись по силе каждого игуменом; каждое дело начиналось молитвой и благословением старшего; помыслы открывались игумену, который был истинным руководителем всех ко спасению. Преподобный Феодосий часто обходил келлии и наблюдал, нет ли у кого чего лишнего и чем занимается братия.
Часто и ночью он приходил к двери келлий и, если слышал разговор двух или трех иноков, сошедшихся вместе, то ударял жезлом в дверь, а утром обличал виновных. Сам преподобный был во всем примером для братии: носил воду, рубил дрова, работал в пекарне, носил самую простую одежду, прежде всех приходил в церковь и на монастырские работы.
Кроме аскетических подвигов, преп. Феодосий отличался великим милосердием к бедным и любовью к духовному просвещению и старался расположить к ним и свою братию. В обители он устроил особый дом для жительства нищих, слепых, хромых, расслабленных и на содержание их уделял десятую долю монастырских доходов.
Кроме того, каждую субботу отсылал целый воз хлеба заключенным в темницах. Из сочинений преподобного Феодосия известны: два поучения к народу, десять поучений к инокам, два послания к великому князю Изяславу и две молитвы.
Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для других монастырей и имела великое значение для развития Церкви. Из ее стен выходили знаменитые архипастыри, ревностные проповедники веры и замечательные писатели. Из святителей, пострижеников Киево-Печерской обители, особенно известны святые Леонтий и Исаия (епископы Ростовские), Нифонт (епископ Новгородский), преподобный Кукша (просветитель вятичей), писатели преп. Нестор Летописец и Симон.